«Мэган, а зачем людям вещи?» — некогда этот вопрос, заданный прекрасной девой, погрузил автора этой книги в длительный ступор. Дело было не в отсутствии ответа, а в самом факте возникновения вопроса. «Этожесамособойразумеется». И все же зачем?
Читаем с Grazia: зачем людям вещи и как с помощью одежды чувствовать себя иначе
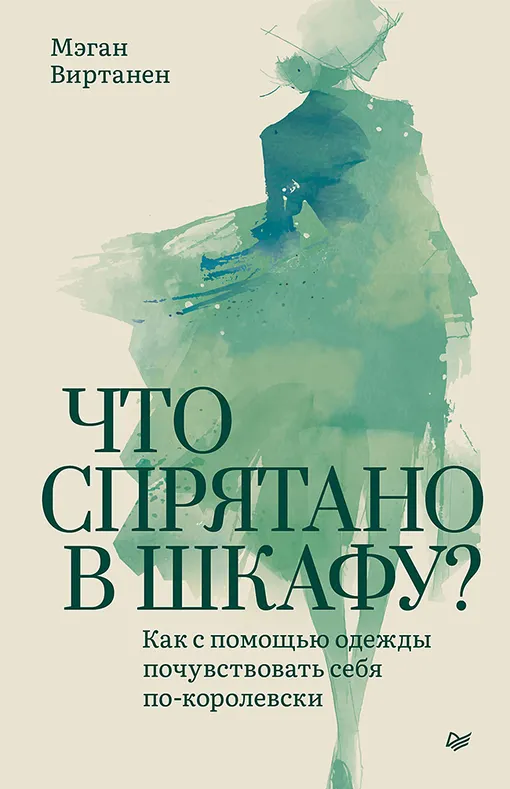
Зачем людям вещи?
История человечества начинается с вещи, взятого в руки инструмента, будь то палка-копалка или каменный топор. Некоторые вещи, которыми мы владеем, обеспечивают реализацию базовой потребности в выживании и безопасности, например теплая одежда. Другие помогают найти любовь и принятие, ведь «по одежке встречают». Третьи символизируют могущество, позволяют развлечься, становятся средствами самореализации. Наше тело словно продолжено до границ вещей, которыми мы пользуемся, они увеличивают наши физические и социальные возможности, «достраивают» нас. Всякий род деятельности сопровождается вещами, и даже вера или эмоции проявляются через артефакты, функционирующие то как вещь, то как знак. Не будем вслед за Мартином Хайдеггером приписывать повседневному обращению с вещами чуть ли не божественную силу, тем не менее без личных вещей нет опыта индивидуальной идентичности. В некотором роде человек — сумма всего, чем он владеет или что может назвать своим: своя семья, своя профессия, свое имущество. «Я» — это не только мысли и чувства, «Я» имеет и материальное проявление, сформированное вещами. Вещи же эти, в свою очередь, несут на себе отпечаток характера владельца и сделанного им выбора, становятся проводниками к его внутреннему миру. Франсуа де Ларошфуко еще в XVII веке иронично подмечал, что наша гордость больше страдает, когда отвергается наш вкус, нежели наши воззрения. Критика наших политических взглядов в большинстве случаев менее чувствительна для самолюбия, чем критика того, как мы одеты. Мы расстраиваемся, когда наши вещи портятся, словно в этот момент портится часть нас самих.

Апологеты антиконсьюмеризма неустанно обличают бездумное накопительство, но социологические и психологические исследования показывают, что за приобретением новых товаров стоят не глупость или тщеславие, а естественные человеческие потребности. Джонатан Свифт съязвил, что «души модников скрываются в их одежде», но в этой фразе он невольно сформулировал одну из базовых истин, касающихся не только модников. Современный покупатель не просто приобретает товары — он выстраивает идентичность, то, кем он себя чувствует или кем хочет быть, то, как он воспринимает себя и выглядит в глазах общества. Перемены в жизни, будь то повышение по службе или материнство, часто требуют обновления гардероба, смена сценария и амплуа подразумевает смену костюмов и декораций. Но еще чаще перемены стиля вызваны внутренними потребностями личности, ведь персональная эстетика трансформируется в течение жизни. Бренды, мастхэвы, стили, образы становятся инструментами для выработки значимого социального опыта, позволяют выразить себя через вещи, собрать свою идентичность по частям, построить свое «Я», соединить свой внешний образ с внутренним состоянием, дарят нас самим себе. Про шопинг-терапию в трудные эмоциональные моменты говорят много, но почти не упоминают, что намного чаще в такие периоды нет никакого желания делать покупки, — так проявляется бессознательное нежелание овеществлять это время, сохранять о нем хоть какую-то память.
Одежда в списке собственности занимает особое место, ведь она интимна, очевидна и вездесуща, мы ее постоянно чувствуем на себе, постоянно видим, постоянно носим. Она помогает нам воспринимать собственное тело и даже символически заменяет его: сильный аффект изображается как разрывание на себе одежды, а изрезать вещи неверного партнера на мелкие клочки — один из вариантов действия в гневе. Что интересно, к такому чаще склонны мужчины, женщины же в большинстве своем предпочитают рвать и резать фотографии. Одежда может быть объектом переноса любви или даже невротическим проявлением. Мы ассоциируем одежду с человеческим телом, одушевляем ее и вследствие этого говорим о сексуальной одежде и возможности стать чувственной, просто надев нечто. Одежда не может сама по себе быть сексуальной хотя бы потому, что у нее нет органов размножения, но в символическом пространстве это не имеет никакого значения. Какие-нибудь кружевные трусы или красный шифоновый пеньюар становятся объектом для наших проекций, знаком, обещающим воплощение тайных фантазий. Особенно часто таким объектом проекций становятся украшения, не имеющие утилитарной функции и в первую очередь связанные с эмоциями и желаниями.

Надеть чужую одежду — это либо символически полностью принять чужую личность, либо попытаться присвоить ее. Так, расхожий образ «девушка с утра на кухне в Его рубашке» показывает полное принятие партнера, а вот обнаружить, что кто-то из домашних без спроса носил ваши вещи, крайне неприятно, даже если сами они при этом совершенно не пострадали. Распространенный обмен нарядами между подружками-подростками не только служит цели разнообразить гардероб, но и символически подтверждает общность вкусов и ценностей, то есть дружбу как таковую.
«Одежда меняет наш взгляд на мир и взгляд мира на нас», — написала Вирджиния Вульф в «Орландо» и дополнила это высказывание идеей, что это не мы носим одежду, а она носит нас. Неважно, верите ли вы в то, что увлеченность «тряпками» отвлекает от глубоких духовных поисков, или, наоборот, убеждены, что некая одежда позволит вам пробудить в себе драматичную светскую львицу или энергичного предпринимателя, — это две стороны медали, в обеих этих крайностях проявляется глубокая уверенность в наличии связи между внутренним миром и внешними проявлениями. Одежда находится на границе этих двух реальностей, изменения в ней влекут за собой перемены поведения и восприятия. В 2011 году в результате одного из исследований появился термин enclothed cognition, вольно переведенный как «одежествленное сознание». Выяснилось, что люди, надевшие белый лабораторный халат, ассоциирующийся с точностью и внимательностью, действительно делали в два раза меньше ошибок и лучше справлялись с задачами на внимание. В другом исследовании футболки с эмблемами супергероев из комиксов повысили оценку участниками собственных физических возможностей и привлекательности. Работники служб социальной защиты отмечают, что возможность хорошо одеваться и выглядеть привлекательно или хотя бы аккуратно становится действенным фактором в излечении пациентов. Действительно, одежда не только отражает наши внутренние процессы, но и влияет на наше эмоциональное состояние, в результате наше самоощущение начинает соответствовать ей. А раз так, то нет нужды выбирать сторону медали, ее просто можно взять с собой целиком.

Прежде чем погружаться в глубины личных склонностей и эмоций, выраженных содержимым гардероба, стоит посмотреть на его основную социальную функцию — служить мостиком, соединяющим вашу частную жизнь с публичной. Одеваясь, людям приходится учитывать не только индивидуальные вкусы и самовосприятие, но и свой статус, телесность, социальные нормы и правила, а также исполняемые общественные роли. Результатом такого компромисса становится то, что Карл Густав Юнг назвал Персоной, воспользовавшись латинским словом persona, означающим маску, которую актер носит во время представления. Персона — это образ, который демонстрируют обществу, маска, которую надевают, принимая участие в игре, и при смене роли вполне логично ее менять. Персона — это не только одежда, это любые личностные заявления, выставляемые напоказ значимые вещи, например дипломы или достижения, но в массовом сознании ее выражением становятся в первую очередь наряды. Задача «маски» Персоны — не скрывать, а, наоборот, акцентировать и выносить наружу определенный набор качеств и свойств личности. В каждом обществе есть расхожие представления о том, как выглядят и как должны быть одеты идеальные учитель, официант, чиновник, сантехник, программист — да кто угодно. Хорошо развитая Персона позволяет качественно отыгрывать ваши жизненные роли, попадая в эти общественные представления, а также свободно переключаться между ролями по необходимости, что, в свою очередь, приводит к ощущению спокойствия и уверенности в себе. Именно это подразумевала Диана Вриланд, утверждая: «Новое платье ничего не меняет для вас. Оно меняет жизнь, которую вы проживаете в этом платье».

Вещи помогают нам создавать рассказы о самих себе, и чем разнообразнее наш гардероб, тем больше у нас ролей и возможностей донести невербальное сообщение, тем богаче «одежный словарный запас». Однообразная одежда свидетельствует о неумении или нежелании учитывать контекст, переключаться между ситуациями, людьми и событиями — это не повествование, а нудный звук на одной ноте. Необязательно превращать свой гардероб в сборник не связанных между собой рассказов, где форма для сплава на байдарках соседствует с бальными платьями. Одежда для разных событий может быть выдержана в едином стиле, но некоторое разнообразие все же не помешает.
Когда вы стоите перед шкафом с мыслью «нечего надеть» — это означает, что возникли проблемы именно с Персоной, ничего из наличествующей одежды не подходит для тех ролей, которые вы хотели бы исполнить, или же внутренний идеал никак не совпадает с предлагаемой внешней действительностью. Распространенные сны-кошмары о внезапной обнаженности в публичном месте тоже свидетельствуют о необходимости разбираться с образами Персоны.

Другой проблемой может стать попытка натянуть на себя образ роли, которой вы не можете соответствовать по внутренним причинам. Попытки при помощи «ролевых» гардеробов изображать роковую женщину или утонченного интеллектуала, если вы ими в глубине души не являетесь, часто приводят к строго противоположному эффекту: и окружающие характеризуют ваш стиль в духе «как на корове седло», и ваше самоощущение никак не совпадает с надетыми вещами. Именно поэтому очень часто подобранные «эстрадными стилистами» вещи вскоре отправляются на дальние полки шкафа, а клиент возвращается к привычным нарядам, пусть невыразительным, зато символизирующим комфорт, покой и безопасность.
